Превратности патриотизма – Огонек № 20 (5615) от 25.05.2020
Новейшие исторические изыскания показывают: ничто так не разъединяло людей в последние два столетия, как призывы к патриотизму. В издательстве Европейского университета в Санкт-Петербурге готовится к печати книга, посвященная истории одного из самых востребованных в современной российской политике понятий — патриотизма. Выяснилось, что патриотизм принимает самые разные формы, ведет к бесчисленным спорам и чреват революциями. О самых интересных открытиях «Огоньку» рассказал автор книги, историк, профессор ЕУ СПб Михаил Кром.
Михаил Кром. Подготовила Ольга Филина
Масштабное исследование истории «патриотизма» для меня начиналось как профессиональный вызов: все-таки область моих научных интересов — это период позднего Средневековья и раннего Нового времени, а тут пришлось изучать источники от Гомера до наших дней. А закончилось все большим удивлением, потому что в ходе работы я убедился: патриотизм настолько многолик, что определить его содержательно просто невозможно. Словари не врут, когда пишут, что патриотизм — это любовь к Родине. Но где вы видели исчерпывающее определение любви? И кто вам точно скажет, что такое родина? Поэтому весь рассказ об истории этого понятия — как роман о любви: захватывающий, с непредсказуемым концом.
Далекое начало
Само слово «патриотизм», которым мы все пользуемся,— относительно недавнее, родом из XVIII века. Но его аналоги встречались уже давно, только не в обобщающем значении. Абстрактного понятия «любовь к родине» древние цивилизации не знали, зато в их языках периодически появлялись (и потом исчезали) слова, обозначавшие человека, преданного своей отчизне. Скажем, в Греции встречалось слово «филополис» — «любящий (свой) город». Город являлся главной ценностью для эллинов, а вот аналогичного понятия, выражавшего любовь ко всей стране, так и не было создано. Что интересно, греки знали и слово «патриот». Однако оно обозначало нечто несимпатичное современному уху, что можно было бы передать жаргонным выражением «понаехавшие тут».
Что касается Руси, то наша история патриотических чувств гораздо продолжительнее, чем принято думать. В памятнике XIV века — житии князя Михаила Тверского, погибшего в Орде, содержится слово «отечестволюбец». Что замечательно: это слово исчезло из языка фактически бесследно и потребовались «раскопки» ученых, чтобы снова его открыть. Невольно задумываешься о прерывистости патриотической традиции в Отчизне. Чуть позже, в середине XV века, появляется выражение «добра хотящие» (то есть доброхоты) конкретного города. Я, например, встретил в псковской летописи упоминание о «
Официальное рождение патриотизма
XVIII век с его модой на иностранные заимствования занес нам и «патриота». Впервые это слово появляется в сочинении сподвижника Петра (и казнокрада, конечно) барона П.П. Шафирова, написанном в 1717 году и имеющем пространное заглавие: «Рассуждение, какие законные причины Его Царское Величество Петр Первый, царь и повелитель всероссийский… к начатию войны против короля Карла XII Шведского 1700 году имел…».
Риторика патриотизма активно развивалась при царском дворе, так как изначально работала на патернализм: все-таки «патер» по-латыни — это отец, а отец народа — это монарх.
Образцы такой риторики нам со школы преподают, рассказывая о речи Петра Первого, которую тот якобы произнес перед сражением на Полтавском поле. Там звучат все эти знаменитые обороты: что солдаты сражаются не за самого Петра, а за Отечество, Петру врученное, и так далее. Однако на самом деле Петр, конечно, ничего такого не говорил. Тогда (в отличие, например, от наполеоновского времени) вообще не принято было командующему (а тем более царю) выступать перед солдатами. Речь Петра — это творение еще одного его сподвижника, архиепископа Феофана Прокоповича, большого поклонника западной учености, получившего образование сначала в Киево-Могилянской академии, а затем в иезуитской коллегии в Риме; причем конкретно эта речь Петра была опубликована спустя много лет после смерти и самого царя-реформатора, и Прокоповича, только в 1773 году. Она выражала уже сложившийся официальный культ патриотизма, в рамках которого Петру был преподнесен титул «отца Отечества» (в духе Древнего Рима), а Екатерине Второй впоследствии — «матери Отечества».
Эволюция патриотизма: античные образцы и национальные идеалы
Но и это еще не все: в XIX веке Европа открывает для себя нацию. Весь XVIII век с его революциями, идеями Руссо (который любил натурализм и самобытность, в отличие от космополита Вольтера) подталкивал к этому событию, и когда оно свершилось — изменилось все, включая патриотизм. Дело в том, что патриотизм в классическом виде — будь то официальный или республиканский — словно лишен истории. Он отсылает к античным образцам, а эти образцы уже даны, они вечны и неизменны. Посмотрите, скажем, на памятник Минину и Пожарскому, стоящий на Красной площади в Москве: в нем все античное — от доспехов до поз, нет никакой связи с реальными историческими событиями. А патриотизм, пронизанный национальным самосознанием, уже очень конкретен, он понятен и доходчив, он рождает подлинно национальных поэтов — и Грибоедов, и Пушкин становятся возможны благодаря этому движению. Но и мощные национальные революции рождаются отсюда же. С национальным чувством мало что могло совладать.
Дело в том, что патриотизм в классическом виде — будь то официальный или республиканский — словно лишен истории. Он отсылает к античным образцам, а эти образцы уже даны, они вечны и неизменны. Посмотрите, скажем, на памятник Минину и Пожарскому, стоящий на Красной площади в Москве: в нем все античное — от доспехов до поз, нет никакой связи с реальными историческими событиями. А патриотизм, пронизанный национальным самосознанием, уже очень конкретен, он понятен и доходчив, он рождает подлинно национальных поэтов — и Грибоедов, и Пушкин становятся возможны благодаря этому движению. Но и мощные национальные революции рождаются отсюда же. С национальным чувством мало что могло совладать.
Эксперименты ХХ века это только подтвердили: коммунистический проект «Интернационала» сдавал позиции всякий раз, когда его проверяли на прочность. Накануне Первой мировой большинство депутатов-социалистов голосовали за предоставление военных кредитов своим правительствам, изменив пролетарскому интернационализму. А большевистские вожди, твердившие вслед за Марксом, что «у пролетариев нет отечества», уже в 30-е годы поменяли курс, поняв, что такое резкое расхождение с действительностью лишает советское правительство почвы под ногами.
Беда монополии
Можно ли сказать, что один образ патриотизма сменялся другим и старые переставали быть актуальны? Вовсе нет. Они наслаивались и наслаиваются один на другой. По-прежнему в ходу патриотизм Шафирова и Феофана Прокоповича, восхваляющий мощь державы и государя, ставящий в зависимость собственное ощущение величия и силы от величия и силы верховной власти. Это старая тема, появляющаяся то в патерналистском, то в имперском изводе, но остающаяся с Россией и по сей день.
Есть и республиканский патриотизм — во всех речах о гражданском обществе, в вечном стремлении к народовластию, склонный ориентироваться на высокие (по сути античные) образцы. Есть и национальный патриотизм, силящийся разглядеть самобытность своего народа, найти ему место среди прочих и подходящую систему правления.
Вывод здесь простой: наивно думать, будто патриотические лозунги могут сплотить народ. История свидетельствует скорее об обратном: активные попытки эксплуатировать патриотическую риторику, как правило, ведут к обострению политической борьбы.
Дух патриотизма сегодня — это дух противоречий, очень сложный комплекс чувств. Наша «любовь к Отечеству» далека от благопристойного спокойствия, это что-то вроде любви в опере «Кармен». Чтобы избежать «битв патриотов» не на жизнь, а на смерть, хорошо бы научиться говорить о более широкой палитре ценностей, различать оттенки патриотизма, каждый из которых имеет право на существование. А вот монополизировать свой образ любви и вовсе бесперспективно, такие монополии всегда призрачны и недолговечны.
Книга «Патриотизм, или Дым Отечества» готовится к изданию летом 2020 года.
«Патриотизм — последнее прибежище негодяя» • Arzamas
История знаменитой фразы английского поэта и критика Сэмюэля Джонсона, неоднократно интерпретированной не менее достойными и одиозными личностями
Подготовил Леонид Марантиди
Сэмюэль Джонсон, 1775 год
Сэмюэль Джонсон. Картина Джошуа Рейнольдса.1756–1757 годы © National Portrait Gallery, London
7 апреля 1775 года на собрании основанного им Литературного клуба доктор Сэмюэль Джонсон произнес фразу столь броскую и двусмысленную, что ее до сих пор с удовольствием используют выразители разнообразных идеологий. Джонсон был плодовитым поэтом, критиком, издателем, магистром искусств Оксфордского университета, а также автором знаменитого высказывания: «Патриотизм — последнее прибежище негодяя». Нельзя точно сказать, какое значение в него вкладывал автор, сам, безусловно, считавший себя патриотом. Из его биографии, написанной Джеймсом Босуэллом, мы узнаем, что этой фразой он прервал очередной обтекаемый спор о любви к отечеству. Зато доподлинно известно не только, что Джонсон понимал под патриотизмом (все-таки он составил первый в истории Англии толковый словарь), но и кого конкретно считал негодяями, а именно — партию вигов, ревностных протестантов, распространителей проамериканских настроений (в то время как раз начиналась борьба за независимость США), протолибералов, имевших дурную привычку размахивать на улицах государственным флагом в защиту гражданских свобод.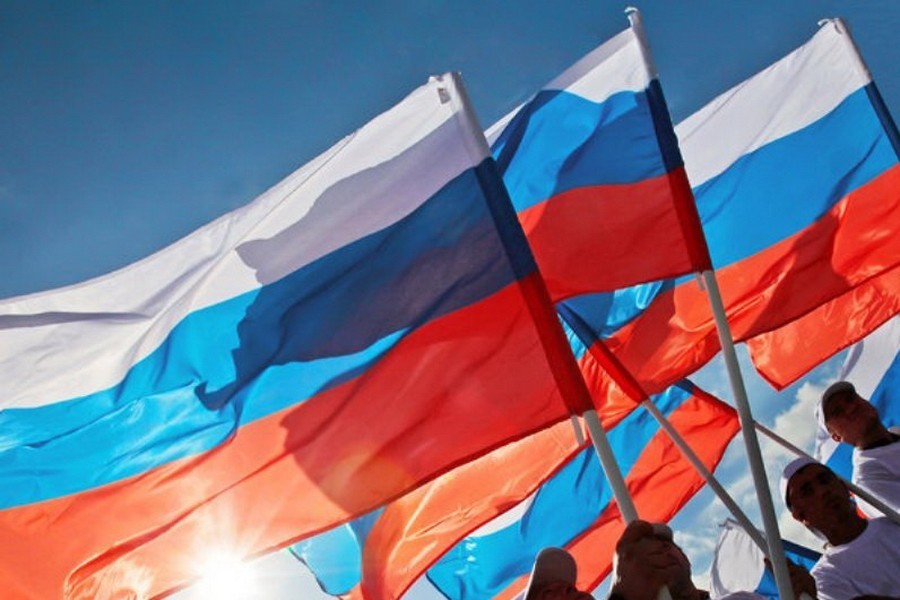 Поскольку преданность стране была главным лозунгом вигов, Джонсон даже посвятил целый памфлет разоблачению так называемых ложных патриотов. Из него можно узнать, что понятие «патриотизм» скомпрометировано: им часто прикрывают уязвленное честолюбие, но при этом совершенно невозможно понять, как отличить мнимого патриота от человека, всего-навсего не разделяющего твою позицию.
Поскольку преданность стране была главным лозунгом вигов, Джонсон даже посвятил целый памфлет разоблачению так называемых ложных патриотов. Из него можно узнать, что понятие «патриотизм» скомпрометировано: им часто прикрывают уязвленное честолюбие, но при этом совершенно невозможно понять, как отличить мнимого патриота от человека, всего-навсего не разделяющего твою позицию.
Лев Толстой, 1906 год
Лев Николаевич Толстой босой. Этюд Ильи Репина к одноименной картине. 1891 год © Государственная Третьяковская галереяКуда однозначнее о патриотизме высказывался Лев Толстой. Поэтому ему то и дело по ошибке приписывают фразу о «прибежище негодяя». На самом деле он лишь процитировал Джонсона в «Круге чтения» — коллаже из своих и чужих мыслей, выполненном в форме литературного календаря: один день — одна тема.
Патриотизм, по Толстому, во-первых, чувство безнравственное, поскольку «для христианина любовь к отечеству стоит преградой для любви к ближнему». Во-вторых, устаревшее, поскольку «любовь к своему исключительному отечеству, которая прежде соединяла людей одной страны, в наше время, когда люди уже соединены путями сообщения, торговлей, промышленностью, наукой, искусством, а главное, нравственным сознанием, уже не соединяет, а разъединяет людей». Помимо джонсоновского афоризма, Толстой подкрепляет свои суждения словами американского проповедника Генри Уорда Бичера (1813–1887): «Человеку внушают, чтобы он ради блага своей страны отказался от всего, что делает страну его достойной уважения…» Таким образом, классик всесторонне доказывает, что за прошедшие сто с лишним лет патриотическое чувство окончательно упало в цене.
Амброз Бирс, 1911 год
Амброз Бирс. Картина Джона Герберта Эвелина Партингтона. 1892 год © Wikimedia CommonsНесколько лет спустя великий американский писатель Амброз Бирс процитировал Джонсона в своем «Словаре Сатаны» (в первом издании — «Лексикон циника»). Только «последнее прибежище» превращается у Бирса в прибежище первое: все-таки времена изменились, скоро Первая мировая. Авторское же определение патриотизма в «Словаре» — «легко воспламеняющийся хлам, готовый загореться от факела любого честолюбца, которому приспичило увековечить свое имя». Определение можно было бы назвать пророческим, если бы эта история не так часто повторялась и ранее.
Только «последнее прибежище» превращается у Бирса в прибежище первое: все-таки времена изменились, скоро Первая мировая. Авторское же определение патриотизма в «Словаре» — «легко воспламеняющийся хлам, готовый загореться от факела любого честолюбца, которому приспичило увековечить свое имя». Определение можно было бы назвать пророческим, если бы эта история не так часто повторялась и ранее.
Стэнли Кубрик, 1957 год
Сцена из фильма Стэнли Кубрика «Тропы славы» (1957) © Archive Photos / Getty Images / FotobankРазговор о патриотизме становится завязкой действия в антивоенной картине Стэнли Кубрика «Тропы славы», обращающейся к событиям Первой мировой войны с вершин опыта Второй. Кабинетный генерал снисходит в окопы уговорить полковника Дакса (Кирк Дуглас) взять очередной стратегически важный холм, пожертвовав при этом половиной своих людей: «Патриотизм не в моде, но лишь он — синоним чести». Полковник отвечает, что не любит, когда перед ним машут государственным флагом как цветной тряпкой, затем нехотя цитирует Сэмюэля Джонсона.
Кубрик подает свою мысль достаточно прямолинейно: война для него —гигантская бюрократическая машина смерти. Генерал, красиво рассуждающий о любви к родине, стройно рассчитывает, сколько безвестных солдат надо принести в жертву его карьере. Абстрактная жертва собой ради отечества оборачивается жертвоприношением конкретным людям в роскошных интерьерах, что добавляет абсурда и без того довольно бессмысленному предприятию.
Боб Дилан, 1983 год
«Говорят, патриотизм — последнее прибежище, / За которое цепляется негодяй. / Украдешь чуть-чуть, они бросят тебя в тюрьму, / Украдешь много, и они сделают тебя королем» — из песни «Sweetheart Like You», обращенной, судя по всему, к статуе Свободы: герой интересуется, что забыла посреди этой помойки такая милая девушка.
vimeo.com/video/121782438?color=000000&title=0&byline=0&portrait=0″ webkitallowfullscreen=»»/>Клип на песню Боба Дилана «Sweetheart Like You». 1983 годНеожиданной рифмой к Дилану может послужить Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, жаловавшийся на то, что «почти на каждом шагу приходится выслушивать суждения вроде следующих: „правда, что N ограбил казну, но зато какой патриот!“».
Вадим Серов, 2003
Своеобразную трактовку афоризма предлагает наиболее полный на данный момент русскоязычный «Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений»: «Автор выражения… хотел подчеркнуть благородство патриотизма. <…> …Не все пропало даже для самого отъявленного негодяя, если в нем еще живо чувство патриотизма… …Патриотизм для такого человека — последний шанс морально возродиться, оправдать свою жизнь». Эту же точку зрения отстаивал в программе «Познер» министр культуры Владимир Мединский, почему-то назвав афоризм Джонсона неправильной цитатой. Так что эту игру слов и смыслов в лучших традициях английской словесности вполне можно считать официальной позицией Российского государства по данному вопросу.
Ничего личного: школьники выбирают любовь к Родине | Статьи
Главной нравственной ценностью российских школьников оказался патриотизм. Об этом свидетельствуют результаты опроса Общественной палаты, проведенного ко Дню народного единства (документ есть в распоряжении «Известий»). Было предложено расставить приоритеты среди семи вариантов ответов. Человеколюбие и справедливость тоже попали в начало рейтинга. А вот уважение к чиновникам, как и личное достоинство, в детской картине мира почти не имеют веса. Лишь треть школьников осознает необходимость веры в добро. Психологи бьют тревогу — подрастающее поколение слишком сосредоточено на государстве, забывая при этом о базовых понятиях морали.
С картинки в буквареКомиссия Общественной палаты (ОП РФ) по развитию общественной дипломатии провела опрос «Что определяют в качестве традиционных ценностей россияне различных возрастов?» (суммарно в нем приняло участие свыше 2 тыс. респондентов из Москвы, Московской области и регионов Центрального федерального округа. — «Известия»). 55,8% школьников на первое место поставили патриотизм. Этот ответ выбрали 73% мальчиков от восьми до 12 лет и 70% девушек от 13 до 16 лет. Юноши оказались менее патриотичны — только половина опрошенных поставила этот показатель на первое место. Среди младших девочек любовь к родине лидирует в списке приоритетов у 30%.
респондентов из Москвы, Московской области и регионов Центрального федерального округа. — «Известия»). 55,8% школьников на первое место поставили патриотизм. Этот ответ выбрали 73% мальчиков от восьми до 12 лет и 70% девушек от 13 до 16 лет. Юноши оказались менее патриотичны — только половина опрошенных поставила этот показатель на первое место. Среди младших девочек любовь к родине лидирует в списке приоритетов у 30%.
Повальный патриотизм у школьников не удивителен, отмечает глава Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный. По его словам, сегодня очень много программ и уроков посвящены любви к Родине, ее пропаганда среди молодежи ведется на государственном уровне.
— Важно понимать, что понятие патриотизма у детей и взрослых отличается. Ребенок видит, что о нем заботятся: его обучают, кормят, следят за его здоровьем. Он чувствует безопасность, стабильность и внимание — из этого и происходит патриотизм, — пояснил психолог Павел Волженков.
Второе место среди главных ценностей российских школьников занимают человеколюбие и справедливость — их выделили 53% опрошенных. Замыкает тройку лидеров чувство долга перед собой, семьей и Отечеством (50%).
Меньше всего значения школьники придают уважению к чиновникам. Девочки всех возрастов вообще не выделяют это понятие как ценность. Из мальчиков от восьми до 12 лет важным его считают лишь 6%, среди юношей от 13 до 16 лет — 33%.
Среди представителей власти есть много тех, кто достойно выполняет свое дело, отметил Павел Волженков, однако их работа рутинная и не получает огласки. Вместе с тем в медиа- и интернет-пространстве широко распространены истории, разоблачающие недобросовестных чиновников. Из-за этого обо всех госслужащих формируется отрицательное мнение, и молодежь его поддерживает.
— Судя по результатам опроса, мы можем говорить, что граждан интересует эффективность работы госслужащих, а не то, какое положение они занимают, — пояснила председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
Школьники низко оценивают и важность личного достоинства. Эту нравственную ценность выделили лишь 13% мальчиков от восьми до 12 лет и 42% их старших товарищей от 13 до 16 лет. Девочки всех возрастов совсем не считают его значимым. Веру в добро считают ценностью только 30,5% школьников.
— Каждый день мы слышим истории о попирании человеческого достоинства. Конечно, у детей формируется впечатление, что оно не представляет никакой ценности, они же всё впитывают, — подчеркнул Анатолий Северный.
Недооцененность важности личного достоинства среди девочек связана с сексуальной сферой, считает Павел Волженков. Идеи феминизма в России не так сильно распространены, и женщина всё еще часто связывает свое благополучие с мужчиной, а не с собственной карьерой. При этом обеспеченных мужчин не так много, и девочки видят, как взрослые девушки не строят семьи, а выбирают роль любовниц и содержанок.
По сути, исследование подтверждает эффективность государственной политики в области сохранения традиционных ценностей, отметила Елена Сутормина. Однако, по ее мнению, еще предстоит разобраться, почему некоторые нравственные ориентиры оказались на низких позициях, и принять меры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Патриотизм в наше время
Патриотизм в наше время.
Патриотизм?… Если спросить у нашей молодёжи о том, что это такое, то ответов отличных от стандартной фразы: «Любовь к Родине», практически не будет. Люди часто говорят, что они патриоты. Продолжают говорить: «я люблю Родину!», но совсем не задумываются над значением этих слов. Дело в том, что патриотом, стало быть модно. Идёт сильнейшая пропаганда поднятия восстанического духа, единства народа и на ряду с этим — патриотизма. Но это понятие искажается, становится испорченным, и постепенно перерастает в национализм. Одни кричат: «я – Русский!», и идут унижать другие национальности, в слух говоря о том, что нужно избавлять Россию от иных наций, нежели славян. Избавлять от тех, чьи люди стояли за целостность Российского государства в войнах, плечом к плечу с нашими дедами! Это совсем не проявление любви к России, как к Родине.
Избавлять от тех, чьи люди стояли за целостность Российского государства в войнах, плечом к плечу с нашими дедами! Это совсем не проявление любви к России, как к Родине.
У некоторых патриотизм проявляется лишь на словах. Многие, говоря: «я – патриот» продолжают пить, курить – тем самым ломая здоровое будущее страны, ругаться матом – уродуя родной русский язык, и ленятся учиться и работать, что приводит к деградации нации. Так разве так проявляется любовь к Родине?
Так же на ряду с этими «патриотами» есть люди, которые мечтают уехать их страны, и мечтая о заграничной жизни говорят что у нас всё плохо, что всё не так, как надо, что мы гиблая страна и ни чего уже не изменить. А сами они что-нибудь для того, чтобы это изменить предприняли? Так если все будем бежать, то ни чего и не улучшиться. Кому всё менять? Кому улучшать? Люди плюют на судьбу страны, не принимая активного участия в её истории, не ходя на выборы и нарушая закон.
Я считаю, что если уж любить Россию, то любить всем сердцем. Она наша Мать, Родина и Дом. И не в коем случае нельзя отворачиваться от неё. Да, у нас много минусов и проблем, но только любя её, мы можем их исправить.
Как можно говорить о патриотизме, когда нынешняя молодежь даже не знает своей истории, когда нет уважения к старшим. Что даже не то что учителей в школе не слушают, но и на родителей своих плюют.
Любовь к Родине начинается с самого рождения, и сопровождает нас всю жизнь. При рождении любовь к матушке России, выражается в любви к маме. В её глазах мы первый раз видим, что-то родное, нашу Родину. После добавляется уже в школе любовь и уважение к учителю, который обучая, вкладывает в нас душу. Дальше она проявляется в глазах наших дедушек и бабушек, которые жертвовали собой ради нашей светлой и спокойной жизни. Дальше родину мы видим в глазах любимого нами человека. А далее в наших детях. Когда смотришь маленькому ребёнку прямо глаза в глаза, в эти ещё ни чем не осквернённые глазки, то сразу понимаешь ради кого и чего надо жить.
Любовь к Родине тесно переплетается с любовью к природе России. К нашим Русским берёзкам, колосьям, к земле, на которой мы трудимся, и родным окрестностям.
Русский народ из покон веков гордился своей историей. Во многих войнах Россия побеждала благодаря силе духа Русского народа, благодаря сплочённости русских людей и их любви к Родине.
Именно это чувство позволяло не убегать с поля сражения, идти на смерть, выживать в голодные годы, превозмогая сложнейшие жизненные трудности, и с оружием в руках идти на врага.
К сожалению, в последнее время эти чувства стали слабеть. Теряются идеалы и цели. Существование многих людей становится бессмысленным. Поколение наших родителей ещё имеет какие-либо осознанные и продуктивные ориентиры, а наша молодёжь в большинстве своём этих ценностей перенять не смогла, а в большей степени не захотела.
У нового поколения свои взгляды на жизнь. И молодёжь расставила приоритеты с точностью наоборот. Сейчас на первом месте стоят модные вещи, машины, деньги, в общем, материальные блага. Для многих стало важнее пойти и расслабиться путём распития алкоголесодержащих напитков, нежели провести вечер с семьёй. Учёба отодвигается на второй план, а все возможные развлечения на первый. Люди стали забывать историю, уже не помнят национальных героев, а вместе с этим и совсем забывают ценности.
Проблема в том, что сознания молодёжи не хватает, что бы осознать нынешнее критическое положение, и предпринять какие либо действия, во их исправление.
«Я — Патриот», «Я люблю Россию!», «Великая Россия!» — говорит наша молодёжь, продолжая при этом выпивать, принимать наркотики, курить и ругаться матом. Таким образом, плюя на всё подвиги предков, на все их достижения и прожитую жизнь.
Вопрос о патриотизме сейчас стоит очень в сложном положении. Картинка красивого, верующего и искренне любящего свою страну народа есть, а в действительности? …..А в действительности сейчас в молодежной среде есть определенная часть юношей и девушек, которые включили патриотизм в систему своих ценностных ориентаций. К сожалению, эта часть не так значительна, как хотелось бы. Но лед тронулся. И это самое главное.
К сожалению, эта часть не так значительна, как хотелось бы. Но лед тронулся. И это самое главное.
Задача нашего поколения– сохранить наш человеческий потенциал, победить безнравственность, бездуховность, вытеснить насаждаемые извне и чуждые нам ценности и взгляды.
В этом году Россия будет отмечать 200 лет со дня Отечественной войны. Двести лет назад русский народ одержал великую победу над иноземными захватчиками, «великая» армия Наполеона разбилась о стойкость русского народа, храбрость и мужество русских войск.
Победа России — это непросто чудо, это выражение непреклонной воли и безграничной решительности всех народов России, поднявшихся в 1812 году на Отечественную войну в защиту национальной независимости своей родины.
Для самой России последствия Отечественной войны были огромны. Не морозы и не пространства России победили Наполеона: его победила сопротивление русского народа. Патриотизм русского народа, мужество солдат армии и искусство полководцем, твердая решимость императора Александра 1 — вот основные причины победы России в Отечественной войне 1812 года. Отрицать роль стихийных факторов нельзя, но они играли второстепенную роль.
Русский народ отстоял свое право на независимое национальное существование и сделал это с такой неукротимой волей к победе, с таким истинным презирающим всякую шумиху героизмом, с таким подъемом духа, как никакой другой народ в тогдашнем мире.
Я благодарен за Подвиг в Отечественной войне 1812 года, за Победу над врагом всему народу и каждому человеку отдельно. Они были частицей огромной силы. В Победе есть доля каждого! Они завещали нам жизнь! Пусть я не буду «полководцем» в этой жизни, но я постараюсь быть достойным своих предков. Они были одними из миллионов людей, для которых понятие патриотизма складывалось из любви к дому, семье, своему корпусу, двору, улице, городу, стране, родине.
Без уважения к собственной истории, к делам и традициям старших поколений невозможно вырастить морально здоровую молодежь. Без возрождения национальной гордости, национального достоинства невозможно вдохновить людей на высокие дела.
Без возрождения национальной гордости, национального достоинства невозможно вдохновить людей на высокие дела.
Патриотизм нужно воспитывать с малых лет, воспитывать дух служения, единения, верности, честности, дисциплины. Только такие люди чести и породят сильную, законную, национальную власть. Наше дело — дело Русского государства. Для этого надо жить интересами Родины, самопожертвованным служением ей, интересами целого, бороться за общее благо, а не за личное, все чувства и мысли подчинить патриотическому и государственному служению Родине.
В конце своей статьи хочу процитировать слова великого русского писателя Валентина Пикуля, он говорил: «Будем же уважать наше прошлое, ибо без него все мы – как деревья без корней. Будем чтить священную память людей из былого времени – с их нелегкой и сложной судьбой».
Гришаев Роман, вице-сержант 7 роты 2 взвода
Руководитель – Горячкина Людмила Николаевна, зав.библиотекой
Московская метапредметная олимпиада «Не прервётся связь поколений – 2019»
Департамент образования города Москвы совместно с Городским методическим центром ДОгМ и Центром педагогического мастерства ДОгМ проводит метапредметную олимпиаду «Не прервётся связь поколений».
Цель метапредметной олимпиады – мотивация обучающихся к проявлению социальной активности через приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким как гражданственность, патриотизм, социальная солидарность, труд.
В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся 5–11-х классов общеобразовательных организаций и обучающиеся профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории города Москвы. Обучающиеся принимают участие в Олимпиаде бесплатно и на добровольной основе.
Тематические направления Олимпиады:
-
«В строю «Бессмертного полка» – сочинение о боевом пути, конкретном эпизоде из жизни людей, прошедших Великую Отечественную войну 1941–1945 годов и внесших свой вклад в Победу над фашизмом;
- «Я родом не из детства – из войны» – сочинение о людях (членах семьи и близких участника олимпиады), переживших в детстве и ранней юности тяготы военного времени;
- «Труд – главное достояние человека» – сочинение о героях и ветеранах труда;
- «Жить – Родине служить» – сочинение об участниках локальных войн и конфликтов, о ветеранах и действующих сотрудниках Вооружённых сил, правоохранительных органов, служб экстренной помощи;
- «Вспомним всех поименно» – сочинение о деятельности поисковых отрядов (клубов), направленной на увековечивание памяти павших в годы Великой Отечественной войны;
- «Судьба и Родина едины» – сочинение о страницах истории семьи участника олимпиады в контексте Отечественной истории.

Положение об олимпиаде «Не прервётся связь поколений» в 2019 году.
Проверка олимпиадных работ завершена!
Для получения информации о результатах проверки работ олимпиады необходимо:
- Войти в почтовый ящик, указанный при регистрации в олимпиаде;
- Найти письмо от [email protected] с темой Не прервется связь поколений 2019.; Если письмо потеряно, воспользуйтесь формой для восстановления доступа
- Зайти по ссылке и паролю из письма в личный кабинет участника олимпиады. Личный кабинет участника олимпиады никак не связан с личным кабинетом на сайте konkurs.mosmetod.ru;
- В личном кабинете указан результат в виде суммы баллов по критериям проверки олимпиадных работ. Критерии проверки работ указаны в Положении об олимпиаде «Не прервётся связь поколений» Результат может быть в диапазоне от 0 до 6 баллов;
- Статус «Победитель» получают участники с 6 баллами, статус «Призёр» с 5 баллами, у остальных отображается статус «Участник».
Дипломы призёров олимпиады размещены на сайте https://konkurs.mosmetod.ru 20 мая 2019 г.
Для получения диплома необходимо:
- Нажать на кнопку Войти в личный кабинет на сайте https://konkurs.mosmetod.ru;
- Восстановить доступ к личному кабинету, введя адрес электронной почты, указанный при регистрации на олимпиаду;
- Получить пароль для входа по электронной почте;
- Войти в личный кабинет и найти электронный диплом в разделе Мои сертификаты.
Обратная связь
Вы можете задать все вопросы по организации олимпиады по адресу [email protected]
Несмешные картинки. Сборник комиксов о жертвах ГУЛАГа
В Музее истории ГУЛАГа подготовили к изданию книгу рисованных историй «Вы – жившие». В основу легли интервью с жертвами сталинских репрессий. Проект в первую очередь адресован подросткам и молодым людям. Согласно статистическим данным, в России около половины респондентов в возрасте от 18 до 24 лет ничего не знают о государственном терроре 1930–1950-х годов.
Проект в первую очередь адресован подросткам и молодым людям. Согласно статистическим данным, в России около половины респондентов в возрасте от 18 до 24 лет ничего не знают о государственном терроре 1930–1950-х годов.
Книга «Вы – жившие» сейчас существует в электронном виде. Она размещена на сайте Музея истории ГУЛАГа. Бумажная версия выйдет вскоре, уже в апреле. Это более привычный для комиксов формат. Правда, у веб-варианта есть свои плюсы: рисунки с краткими подписями соседствуют здесь с видеоклипами. Это записанные музейными сотрудниками интервью, в которых уже очень немолодые люди вспоминают о пережитом. Елена Маркова – о воркутинской каторге и лагерях, в которых она провела 11 лет: «Лагерь – это мир зла. Это было натуральное рабство. Мы спали на голых досках в той же одежде, в которой работали в шахте. Это была жизнь в замкнутом пространстве с отравляющими испарениями. Запах барака – это вонь. Кто был среди каторжанок? В основном очень молодые женщины. Все – злостные «враги народа», «изменники родины», и все имели срок 15–20 лет. Без надежды…»
Елена Маркова выжила, была реабилитирована и после заключения стала специалистом в области кибернетики. Герои других рассказов, переложенных на язык графики, вспоминают не живых, а погибших. Родители Юлии Пашаевой были расстреляны. Брата и сестер раскидали по разным детским домам в разных концах страны. Они нашли друг друга уже взрослыми. Только тогда со слов старшей сестры Юлия Пашаева узнала о семейной драме: »В 1937 году вызвали папу на допрос, неожиданно. После этого допроса его арестовали. В Красногорском был длинный-длинный барак, куда помещали арестованных. Галина, ей было 13 лет, подбежала к этому бараку. Там был высокий забор. Она нашла щель. И когда охранник с ружьем обходил этот барак кругом, она подбежала к окну и стала звать папу, кричать. Он подошел к окну и стал с ней говорить: «Скажи маме, я ни в чем не виноват. Меня обвинили и меня приговорили к расстрелу». Галина в последний раз видела папу.
Галина в последний раз видела папу.
Даже тех членов семей, кого формально не коснулись репрессии, с полным правом нужно считать пострадавшими. Инна Железовская – дочь бухгалтера, погибшего в лагере от голода и болезней. Она рассказывает, как и почему выбрала свою профессию: »Я вообще не хотела быть врачом. Мне нравились гуманитарные науки. Я хорошо знала немецкий язык и мечтала пойти либо в Институт иностранных языков, либо в Институт кинематографии. Меня очень тянуло на режиссерский факультет. Но меня опустили с небес на землю. Дело в том, что я окончила школу в 1948 году. Это год, знаменитый тем, что была новая волна репрессий. И сажали уже детей репрессированных. Папа к тому времени умер. А мне сказали, что надо брать такую профессию, с которой ты можешь выжить в лагере. Профессия врача как раз такая. Поэтому я пошла в медицину. Но я потом полюбила свою профессию и с удовольствием проработала 48 лет».
В книге «Вы – жившие» под одной обложкой собраны не только комиксы, каждый из которых посвящен отдельной человеческой судьбе. Всякий рисованный рассказ завершается цифрами. Это данные о числе несправедливо осужденных по тем или иным политическим статьям. О погибших в тюрьмах, колониях и лагерях. Наконец, о миллионах реабилитированных.
Сборник «Вы – жившие» его создатели назвали «графическими новеллами». Слово «комикс» употреблять остереглись. Директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов признается, что применительно к такому скорбному проекту веселое слово показалось немного неуместным. Впрочем, только немного:
Обложка комикса «Вы – жившие»– С одной стороны, действительно, комикс в России воспринимается как легкий жанр. С его помощью чаще рассказываются смешные истории. У нас еще не пришло понимание, что это просто особая форма повествования. Поэтому мы все сошлись, что более подходящее обозначение – «графические новеллы». С другой стороны, если честно, мы про это только чуть-чуть думали. Были первые сомнения, но они быстро развеялись, когда вспомнили, что во всем мире проблемы XX века осмысляются языком комиксов уже не первый год. Есть комикс, который рассказывает о Холокосте. Есть множество комиксов, посвященных Хиросиме и другим трагедиям. И у нас в России, я знаю, только что появился комикс о блокаде Ленинграда.
Были первые сомнения, но они быстро развеялись, когда вспомнили, что во всем мире проблемы XX века осмысляются языком комиксов уже не первый год. Есть комикс, который рассказывает о Холокосте. Есть множество комиксов, посвященных Хиросиме и другим трагедиям. И у нас в России, я знаю, только что появился комикс о блокаде Ленинграда.
Наш проект о репрессиях – в этом ряду. Мне кажется важным, что истории в комиксе «Вы – жившие» связаны с конкретными людьми и реальными событиями, которые рассказываются у нас в музейной экспозиции. Это такой мостик. Надеюсь, мы прокладываем путь к более сложному и более глубокому рассказу.
– Значит ли это, что посетитель Музея истории ГУЛАГа сможет увидеть материалы, связанные именно с теми людьми, о которых рассказывается в комиксе?
– Да, в числе других таких же. Наша постоянная экспозиция не случайно называется «ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны». На первую линию мы выносим именно судьбы людей. Вот это для нас важно в репрессивной истории. Что стоит за всеми документами, нормативами и большими статистическими цифрами, о которых мы знаем? За этим стоят конкретные люди. Через прикосновение к истории одного человека ты по-другому начинаешь воспринимать и 700 тысяч человек расстрелянных, и то, что было с их родственниками, и кто такие дети «врагов народа». Ты понимаешь, что такое спецпереселенцы и депортированные.
Фотографии из домашнего архива Инны Железовской и лагерные письма ее отца. Экспозиция Музея истории ГУЛАГаУ нас в музее судьба человека представлена специальными экспозиционными модулями, в которых предметы, посвященные одному конкретному человеку, сопровождаются рассказом. Когда посетитель подходит к такой витрине, он снимает специальный наушник, и запускается видеоряд. Это и собственно видео, и архивные фотографии, и документы, и письма. Мы собрали все такие источники и сформировали рассказ. Каждая судьба человека озвучена конкретным актером из Театра наций. Таких историй в постоянной экспозиции 16. Четыре из них представлены как раз в графических новеллах.
Четыре из них представлены как раз в графических новеллах.
– И все же, как возникла идея сделать книжку комиксов?
– Мы много думали о том, как выстраивать коммуникацию с молодыми людьми, какие могут быть актуальные формы. Нередко мы обращаемся к коллегам извне, которые занимаются вещами, не имеющими прямого отношения к музейному делу. Так было и тут. Появление комиксов – это результат взаимодействия с рекламной компанией BBDO Moscow. Мы обратились к ним с просьбой предложить нам какой-то новый взгляд. Какими проектами, какими делами можно выстраивать новую коммуникацию? Как можно рассказывать историю репрессий? В этом агентстве была собрана группа, в которую вошли как их сотрудники, так и привлеченные со стороны молодые люди. Они генерировали идеи. Было много разных интересных предложений – 10 разных вариантов и проектов. Мы остановили свой выбор на комиксах. Надо сказать, что эта работа была проделана не на коммерческой основе. Агентство BBDO Moscow разделяет наши взгляды, и они решили оказать нам содействие безвозмездно. Кстати, и художников помогли подобрать.
Страница комикса «Вы – жившие»– Станете ли вы заниматься распространением сборника комиксов?
– И я, и мои коллеги, которые участвовали в этом проекте, все мы ждем сейчас выхода бумажной версии. Потому что по моему личному ощущению, у комиксов есть своя специфика. Их хочется держать в руках, листать, подолгу рассматривать. Виртуальное представление немного ущербное. Первый тираж – это тысяча экземпляров. Сейчас мы ведем переговоры с сетевыми книжными магазинами, чтобы эти комиксы появились у них на полках не только в Москве, но и в других городах России. Заинтересовались этим изданием и в библиотечной сети. Мы ориентируемся на школьные и городские библиотеки.
– Музей истории ГУЛАГа ведет большую просветительскую работу, и единомышленников из сторонних организаций у вас немало. Однако немало и оппонентов. 9 мая в Новосибирске откроют памятник Сталину, очередной в стране за последние годы. Есть у вас понимание, с чем связан этот крен в общественном сознании?
Есть у вас понимание, с чем связан этот крен в общественном сознании?
– Это даже не возвращение культа, а скорее, последствия. В общественном сознании многое не проработано, не осознано. Наверное, это имеет отношение к мифу о прекрасном Советском Союзе. Обращаясь к этому мифу, люди сегодня компенсируют то, чего им не хватает в сегодняшнем дне.
– Да, но количество таких людей стремительно растет. Уже перестали стесняться гордо называть себя «сталинистами». Всякий раз, когда разворачивается полемика по поводу памятников Сталину, одни люди говорят о репрессиях, а другие яростно доказывают, что эти цифры лживые или преувеличенные. Это их любимый аргумент. Самое пугающее, что в этом убеждены далеко не только граждане старших поколений.
– Знаете, у меня, наоборот, ощущение, что молодые люди не разделяют такие идеи. Вот сейчас мы с вами поднимались по лестнице и встретили очередную группу школьников, которые пришли к нам в музей. И школьники, и студенты пытаются разобраться, что было в XX веке. Им непросто. Они сталкиваются с дихотомией, с обилием трактовок. С одной стороны им говорят, что репрессии – это было ужасно, а с другой стороны, что это было необходимо, и да, что на самом деле это не такие большие цифры. Что благодаря государственному террору у нас есть инфраструктура, победа в войне и так далее. Ну а молодые люди все-таки хотят разобраться и выработать свою точку зрения.
Акция протеста против установки памятника Сталину. Новосибирск, 2018 годРабота нашего музея направлена на то, чтобы документально подтвердить все наши тезисы. Но поскольку не произошло правовой оценки на государственном уровне, допустимы высказывания о том, что репрессии были необходимы или что репрессий вовсе не было. Правовая оценка, я думаю, рано или поздно произойдет. А сегодня есть запрос на то, чтобы во всем разобраться. Причем он есть у молодых людей. Это может быть абсолютно не связано с семьей. Такое очень часто встречается, даже среди моих коллег, сотрудников нашего музея, когда родители придерживаются обратной точки зрения – что ничего страшного в период репрессий не происходило. Казалось бы, среда диктует молодому человеку другие представления, но он, несмотря ни на что, говорит: «Я сам разберусь. Я представляю, что все, может быть, было иначе». Или задается вопросом: а кем был дедушка, прадедушка? И тогда случается, вскрываются документы, из которых следует, что это был сотрудник НКВД или, наоборот, старший родственник был репрессирован, а о нем никто никогда ничего не рассказывал, и в семье это было тайной. Желание разобраться, потянуть ниточку из прошлого, вот эти движения делают нас сегодня здоровее. Безусловно, появление сегодня памятника Сталину или высказывания о том, что репрессии были единственно возможными и благодаря им мы многого достигли, вызывают естественное негодование. Но, с другой стороны, я вижу, что тяга к выздоровлению объективно есть, – говорит Роман Романов.
Казалось бы, среда диктует молодому человеку другие представления, но он, несмотря ни на что, говорит: «Я сам разберусь. Я представляю, что все, может быть, было иначе». Или задается вопросом: а кем был дедушка, прадедушка? И тогда случается, вскрываются документы, из которых следует, что это был сотрудник НКВД или, наоборот, старший родственник был репрессирован, а о нем никто никогда ничего не рассказывал, и в семье это было тайной. Желание разобраться, потянуть ниточку из прошлого, вот эти движения делают нас сегодня здоровее. Безусловно, появление сегодня памятника Сталину или высказывания о том, что репрессии были единственно возможными и благодаря им мы многого достигли, вызывают естественное негодование. Но, с другой стороны, я вижу, что тяга к выздоровлению объективно есть, – говорит Роман Романов.
Награда от Путина за патриотизм – 33polit.info
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени руководителя Муромского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Василия Вахляева за заслуги в развитии ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи.
«Муромский мередиан» известил об этом земляков, но без подробностей, которые можно найти на сайте «Боевого братства». Муромские «боевые братья» регулярно проводят многочисленные патриотические акции под руководством Василия Вахляева. А в бытность губернатором Светланы Орловой «Боевое братство» активно фигурировало на региональном уровне.
Евгений Рычков и Василий Вахляев, фото murom.ruК примеру, 3 марта 2018 года накануне выборов президента Владимира Путина во Владимире прошла масштабная акция, посвящённая 75-летию Сталинградской битвы. Василий Вахляев в своём выступлении на митинге с участием Светланы Орловой славил президента.
«Мы, ветераны боевых действий гордимся и верим в нашего президента. Необходимо объединиться вокруг сильной личности, чтобы сохранить нашу целостность и идентичность России», – говорил он тогда, а год спустя получил ответ от президента.
В 2016 году подопечные господина Вахляева из муромского «Боевого братства» засветились на скандальном пикете против приехавшего во Владимир оппозиционера Михаила Касьянова.
Как потом выяснилось, первый замглавы администрации округа Муром Василий Вахляев привёз своих соратников и подчиненных из окружной администрации на служебном автобусе. Очень удобно: сам в «белый дом» решать насущные вопросы, а попутчики из «Боевого братства» – прямым ходом забрасывать яйцами бывшего премьер-министра российского правительства. Наверное, за такое успешное развитие ветеранского движения и наглядный патриотизм получена заслуженная награда от президента.
Поделиться ссылкой:
17+ лучших книг о патриотизме, Дне независимости и Америке · Книга Nerd Mommy
Я горжусь тем, что я американец. Конечно, я понимаю, что не все в нашем прошлом или даже в нашем настоящем как нации идеально, но в целом мне нравится жить здесь и растить здесь свою семью. Я также считаю, что для детей, независимо от того, где они живут, важно иметь общее представление о стране, в которой они живут, и тех частях ее истории, которые помогают определить культуру и сообщество людей, которые там живут.В каждой нации есть красота, и каждая история заслуживает того, чтобы ее рассказать. Дети, которые понимают и любят свою страну, могут вырасти продуктивными и полезными гражданами, которым не все равно. Я верю, что дети — это наше будущее, и у них есть большой потенциал для позитивных изменений в мире.
Ниже приведены некоторые из наших любимых книг об Америке, Дне независимости и патриотизме. Они выделяют некоторые из моих любимых символов, историй и мест этой нации, а также книгу, в которой есть прекрасное определение того, что значит быть американцем.Они идеально подходят примерно для четвертого июля или в любое время года, а также станут отличным знакомством с Соединенными Штатами. Каждый замечательный.
Они выделяют некоторые из моих любимых символов, историй и мест этой нации, а также книгу, в которой есть прекрасное определение того, что значит быть американцем.Они идеально подходят примерно для четвертого июля или в любое время года, а также станут отличным знакомством с Соединенными Штатами. Каждый замечательный.
* в этом посте есть партнерские ссылки
«50 штатов: исследуйте США с помощью 50 карт с фактами», авторы Габриэль Балкан и Соль Линеро. Этот большой атлас красив и содержит интересную информацию обо всех 50 штатах. Вы можете часами изучать карты и учиться!
«Что значит быть американцем?» Авторы: Рана ДиОрио и Элад Йоран. Эта красивая книга несет важную информацию о тех характеристиках, которые мы стремимся обладать и поддерживаем как граждане Америки.Это беспристрастная точка зрения, она описывает тип американцев, которым, я надеюсь, способствует наша семья.
«Детская книга Америки» Уильяма Дж. Беннета и Майкла Хейга. Эта книга наполнена рассказами об основании и истории Америки. Он включает в себя все от документальной литературы (например, историю Льюиса и Кларка), а также популярные народные сказки и стихи, которые являются частью нашей культуры и «истории» (например, Пол Баньян).
«Слова, которые построили нацию: голоса демократии, которые сформировали историю Америки» Мэрилин Миллер, Эллен Скордато, Дэна Такера и Кейт Макдевитт. Эта научно-популярная книга наполнена документами, которые сформировали наше правительство и законы, регулирующие нашу страну.Это толстая книга, в которой много информации, и она идеально подходит для детей.
«Прекрасная Америка» Кэтрин Ли Бейтс и Уэнделла Минора. Эта прекрасно иллюстрированная книга содержит текст песни «Прекрасная Америка». Каждая иллюстрация — это важное место или событие в США, и на обратной стороне есть указатель, объясняющий это.
«О, скажи, ты видишь?: Символы, достопримечательности и вдохновляющие слова Америки» Шейлы Кинан и Энн Бояджиан. В этой книге рассказывается о многих символах и достопримечательностях Америки, а также рассказывается о них и рассказывается о них.Он включает в себя все, от памятника Вашингтону до истории дяди Сэма. Сзади также есть удобный глоссарий и указатель.
В этой книге рассказывается о многих символах и достопримечательностях Америки, а также рассказывается о них и рассказывается о них.Он включает в себя все, от памятника Вашингтону до истории дяди Сэма. Сзади также есть удобный глоссарий и указатель.
«Вашингтон, округ Колумбия от А до Я» — Алан Шредер и Джон О’Брайен. Эта научно-популярная книга представляет собой забавный поворот к алфавиту, поскольку в ней содержится 26 фактов и фрагментов информации о столице страны. На самом деле он довольно длинный для книги по алфавиту и предлагает многому научиться.
«Усеянное звездами знамя» Питера Спира — я просто обожаю это! Текст — это слова к нашему национальному гимну, а иллюстрации придают детям дополнительный смысл и понимание истории песни, а также того, что в ней говорится.Сзади также есть раздел научно-популярной литературы, посвященный истории гимна, и это действительно изящно.
Марджори Прайсман «Как приготовить вишневый пирог и увидеть США» — эта восхитительная книга рассказывает вымышленную историю маленькой девочки, которая путешествует по Америке, чтобы собрать все необходимое, чтобы получить материалы для изготовления инструментов для вишневого пирога. как ингредиенты. В нем есть забавные, случайные факты о штатах, в которых она идет, в конце есть карта ее путешествия по стране, и это очень весело.
«Ее правая ступня» Дэйва Эггерса и Шона Харриса. В этой красивой книге рассказывается история Статуи Свободы с особым акцентом на правой ступне статуи, что создает иллюзию статуи «в движении».
«Красный, белый и бум!» Ли Вардлоу и Хай Воун Ли. В этой забавной книге показаны три различных типа празднования Дня независимости, включая пляж, парад и фейерверк. Иллюстрации и простой текст такие забавные, и их приятно читать.
«История Статуи Свободы» Бетси Маэстро и Джулио Маэстро — эта книга завораживает! В нем рассказывается история статуи свободы с акцентом на то, как она была построена и для чего она служит. Прекрасная дань уважения любимому символу.
Прекрасная дань уважения любимому символу.
«Благодать для президента» Келли ДиПуччио и ЛеУйен Фам. В этой забавной книге рассказывается история маленькой девочки, которая вдохновляется баллотироваться на пост президента класса в своей школе, когда она узнает, что в нашей стране еще не было женщины-президента.Это также отличное введение для обучения детей принципам работы системы голосования.
«50 городов США: исследуйте города Америки с помощью 50 карт, заполненных фактами» Габриэль Балкан и Соль Линеро. Эта книга похожа на Атлас 50 штатов из этой серии, но вместо этого в ней рассматривается крупный город каждого из них. из пятидесяти штатов. Это вызывает у меня абсолютную страсть к путешествиям!
«Откройте для себя Америку от моря до сияющего моря» Джули Олсон и Кэтрин Ли Бейтс. Текст в этой книге является частью песни «Прекрасная Америка» и показывает путешествие на воздушном шаре от одного побережья США к другому.Иллюстрации на каждой остановке прекрасны, а в конце есть даже карта, которая показывает весь путь.
«Соединенные вкусы Америки» Габриель Ланггольц и Даниэль Акен — эта книга — настоящая жемчужина! Это объемная книга, в которой представлены все 50 штатов Союза с короткой информационной страницей, за которой следует рецепт культовой еды этого штата. Каждый рецепт оценивается в зависимости от сложности, чтобы помочь вам выбрать, какие из них готовить с маленькими детьми, и их так интересно просматривать!
«Нелли берет Нью-Йорк: приключения маленькой девочки в большом яблоке» Эллисон Патаки и Марии Майерс. Эта книга представляет собой веселую виртуальную экскурсию по Нью-Йорку глазами вымышленного персонажа и ее собаки.Он действительно передает «дух города» и поражает многих главных достопримечательностей Нью-Йорка.
«Наш флаг все еще был на месте: правдивая история Мэри Пикерсгилл и звездное знамя» Джесси Хартланд. Это правдивая история женщины и ее команды, создавшей гигантский флаг, который послужил вдохновением для нашего национального гимна. Это такая интересная история, и эта книга — такой увлекательный способ научить ее.
Это такая интересная история, и эта книга — такой увлекательный способ научить ее.
«Мой первый атлас 50 штатов» Джорджии Бет и Сары Линн Крамб — это еще один фантастический атлас США большого формата.На странице выделено место для каждого штата и представлены основные сведения о штате от природных ресурсов до достопримечательностей. Я тоже люблю смелые и яркие цвета!
Соединенные Штаты в 100 словах (в двух словах) Нэнси Дикманн и Пол Бостон. Эта огромная красота содержит 100 слов, относящихся к Америке, с объяснением, почему они были выбраны. Не обманывайтесь, здесь действительно много истории.
Следующий президент: Неожиданное начало и неписаное будущее президентов Америки (Книга президентов для детей; История президентов Соединенных Штатов в молодости) Кейт Месснер и Адам Рекс. Эта книга феноменальна.Он выделяет каждого президента Соединенных Штатов таким образом, чтобы показать, где будущие президенты были в своей жизни, пока избранные президенты занимали свои должности. Это действительно заставляет задуматься о том, где сейчас находятся следующие президенты будущего и что они делают.
«Голубое небо — белые звезды» Сарвиндера Наберхауса и Кадира Нельсона. В этой книге мало текста, но большое влияние. В нем представлены разные части Америки, которые делают ее великой (от гражданских прав до высадки на Луну), и она тяжелая для американской гордости.
«Пирог для раздачи» Стефани Петрушка Ледьярд и Джейсон Чин. В этой книге рассказывается о четвертом июля, от культового пикника с пирогом до фейерверка в конце дня. Это замечательно.
Чтобы сохранить этот список для дальнейшего использования, закрепите изображение ниже:
СвязанныеНаука, патриотизм и гражданское общество в Императорской России на JSTOR
Abstract Политехническая выставка 1872 года, организованная московским ученым обществом, помогла мобилизовать ресурсы для популяризации науки, объединявшей царское чиновничество, московское городское правительство и деловые круги, университетских ученых и другие частные ассоциации. Хотя отношения между автократическим правительством и обществом часто изображаются в терминах конфликта, чаще всего правилом было партнерство, особенно в попытках построить отечественную научную инфраструктуру. Грандиозные выставки науки и промышленности девятнадцатого века были объектами современности, которые отображали видение прогресса, создавали общественную культуру и формировали национальную идентичность. Московская политехническая выставка сопоставила современное и иностранное с традиционным и русским, чтобы продемонстрировать, что Россия может иметь современную науку и технологии, не отказываясь от своей традиционной культуры.Как это ни парадоксально, но для того, чтобы отстоять свое место в европейской цивилизации в эпоху национализма и империализма, России пришлось отстаивать свою русскость — свою культурную самобытность, патриотизм и имперскую гордость. Делая акцент на изменениях и прогрессе, а также на традиционной русской культуре, выставка способствовала осознанию российской публикой своего места в меняющемся мире, своего места в истории, своей идентичности как нации.
Хотя отношения между автократическим правительством и обществом часто изображаются в терминах конфликта, чаще всего правилом было партнерство, особенно в попытках построить отечественную научную инфраструктуру. Грандиозные выставки науки и промышленности девятнадцатого века были объектами современности, которые отображали видение прогресса, создавали общественную культуру и формировали национальную идентичность. Московская политехническая выставка сопоставила современное и иностранное с традиционным и русским, чтобы продемонстрировать, что Россия может иметь современную науку и технологии, не отказываясь от своей традиционной культуры.Как это ни парадоксально, но для того, чтобы отстоять свое место в европейской цивилизации в эпоху национализма и империализма, России пришлось отстаивать свою русскость — свою культурную самобытность, патриотизм и имперскую гордость. Делая акцент на изменениях и прогрессе, а также на традиционной русской культуре, выставка способствовала осознанию российской публикой своего места в меняющемся мире, своего места в истории, своей идентичности как нации.
Slavic Review — международный междисциплинарный журнал, посвященный изучению прошлого и настоящего в Восточной Европе, России, Кавказе и Центральной Азии.
Информация для издателей Cambridge University Press (www.cambridge.org) — издательское подразделение Кембриджского университета, одного из ведущих исследовательских институтов мира и лауреата 81 Нобелевской премии. В соответствии со своим уставом издательство Cambridge University Press стремится максимально широко распространять знания по всему миру. Он издает более 2500 книг в год для распространения в более чем 200 странах. Cambridge Journals издает более 250 рецензируемых научных журналов по широкому спектру предметных областей в печатных и онлайн-версиях.Многие из этих журналов являются ведущими научными публикациями в своих областях, и вместе они составляют одну из самых ценных и всеобъемлющих исследовательских работ, доступных сегодня. Для получения дополнительной информации посетите http://journals.cambridge.org.
Для получения дополнительной информации посетите http://journals.cambridge.org.
книг для обучения патриотизму
Из плана подразделения: Практика патриотизма
Книги для студентов
Клятва верности
Scholastic
Эта книга фотографий иллюстрирует слова Клятвы верности.Каждая картинка может привести к обсуждению значения слов в Обете. Сноски Камы Эйнхорна интерпретируют некоторые фразы, сообщают, когда следует установить флаг, содержат интересные факты о флаге и предоставляют дополнительную информацию о каждой фотографии. Эта книга подходит для всех возрастов.
Свобода
Lynn Curlee
Несмотря на то, что это книга в формате книжки с интересными полностраничными изображениями, это определенно книга, предназначенная для читателей более высокого уровня, или книга, которую можно использовать для чтения вслух с обсуждением.История Статуи Свободы начинается с момента ее создания и строительства в Америке. На последних страницах даются спецификации и временная шкала Статуи.
Флаг, который мы любим
Пэм Муньос Райан, иллюстрация Ральфа Масиелло
Это красивая книжка с картинками с простым текстом и яркими картинками. На каждой странице появляются интересные исторические факты об истории американского флага. Эта книга подходит для легкого чтения для читателей 3-5 классов, но исторические факты содержат более сложный текст.
Стена
Ева Бантинг
Говоря простым языком, Ева Бантинг демонстрирует красоту и эмоциональное воздействие Вьетнамского мемориала. Маленький мальчик и его отец посещают место вьетнамского мемориала, связываясь с дедушкой, с которым маленький мальчик так и не смог встретиться. Он очень мощный, но подходит для всех уровней.
Стена имен: история мемориала ветеранов Вьетнама
Джуди Доннелли
Эта книга представляет собой полную, но простую историю войны во Вьетнаме и Вьетнамского мемориала. Лучше для учеников 4-5 классов и выше. У студентов будет много вопросов, будут спровоцированы интересные дискуссии.
Лучше для учеников 4-5 классов и выше. У студентов будет много вопросов, будут спровоцированы интересные дискуссии.
Профессиональные ресурсы
Пьесы для чтения вслух: Символы Америки: 10 увлекательных воспроизводимых пьес, которые рассказывают детям о важных американских символах, героях и праздниках, рассказывающих историю нашей страны Мак Льюис
Молодые патриоты Кэрол Марш
Наш флаг Полли Хоффман
Патриотические памятники и мемориалы Мелисса Харт
Патриотические песни и символы Мелисса Харт
Патриотические головоломки Мэри Эллен Стерлинг и Сьюзан Шуман Ноулин
Изображение профиля WeChat мученика из-за перестрелки в долине Галван пробуждает чувства патриотизма у китайцев
Изображение профиля в WeChat мученика Сяо Сиюаня (фото: Weibo)
Изображение профиля в WeChat 24-летнего солдата Сяо Сиюаня, одного из четырех мучеников, которые пожертвовали своими жизнями, чтобы защитить национальный суверенитет и территорию Китая в стычке с Индией в долине Гальван. в июне 2020 года вызвала широкое внимание в китайских социальных сетях на этой неделе после того, как в популярной патриотической анимации Year Hare Affair была замечена фигура кролика, представляющая «Китай» или «китаец».На снимке кролик в боевой форме и с винтовкой Тип-95 идет вперед, развевая над головой национальный флаг Китая. Похоже, он готов защищать Китай и сражаться с врагами. Кролик — имя нарицательное для китайской публики; Многие пользователи сети сказали, что они также используют похожие фотографии Year Hare Affair или даже такие же, как у Сяо, в качестве своих фотографий в социальных сетях.
Карикатурист Линь Чао, автор книги Year Hare Affair , сказал Global Times во вторник, что он был глубоко тронут, увидев фотографию Сяо в WeChat.
«Мне было очень грустно и жалко его смерти; он был так молод, неженат, как младший брат», — сказал он. «Но он оказался таким сильным и храбрым, облачившись в форму НОАК (Народно-освободительной армии), способным защищать нормальных людей — включая меня, — которые могут быть намного старше его».
«Но он оказался таким сильным и храбрым, облачившись в форму НОАК (Народно-освободительной армии), способным защищать нормальных людей — включая меня, — которые могут быть намного старше его».
Линь добавил, что планирует сделать видеосюжет на память мученикам. «Мы также можем рассказать эту историю в будущих эпизодах« Year Hare Affair », — сказал он Global Times.
Патриотизм китайского народа достиг недавнего пика после того, как Китай в пятницу обнародовал подробности конфликта в долине Галван. Изображение профиля мученика Сяо в WeChat, которое было показано на скриншоте из истории чата между Сяо и его матерью, широко распространенной на Weibo, вызвало уважение к героям у многих пользователей сети, многие из которых также являются поклонниками Year Hare Affair .
«Я разрыдался, увидев в WeChat фотографию Сяо — кролика Year Hare Affair », — написал в субботу пользователь Weibo.«Может быть, Сяо тоже с нетерпением ждал обновлений аниме, как и мы».
«Я так тронут, увидев, что этот герой, возможно, получил некоторое духовное утешение из [моего] аниме», — сказал Лин на Weibo позже в тот же день.
Линь сказал Global Times, что он надеется, что его аудитория, особенно молодежь, сможет набраться сил и мужества от анимационной работы и не боится «идти на передовую, когда нарушают нашу родину», как это сделали Сяо и другие герои.
Year Hare Affair , аниме с красной тематикой, известно как одна из лучших анимаций на китайском рынке, и по данным статистики, представленной на 2020 год, на основных отечественных видеосайтах Китая набрало более 800 миллионов просмотров. Команда Лина.
На нем Китай изображен как «кролик», а другие страны — как другие животные, такие как «ястреб», «петух» и «бык», что в равной степени захватывающим и стимулирующим образом представляет серьезные военные и дипломатические проблемы. Под влиянием этого амина многие патриотически настроенные китайские молодые люди любят называть себя «китайскими кроликами» в социальных сетях.
Одна из причин, по которой Линь использует фигуру «кролик» для обозначения Китая и китайцев, заключается в том, что в культуре китайского зодиака за Годом Кролика всегда следует Год Дракона.
Это интересная метафора, которая подразумевает, что Китай «станет сильнее и могущественнее в будущем», — пояснил Линь, упомянув фразу, которую энтузиасты Year Hare Affair любят использовать, чтобы выразить свою любовь и амбициозные ожидания в отношении страны: «Наши (завоевание) путешествие — это море звезд », — сказал он.
Американский патриотизм выходит из-под контроля?
Его называют последним пристанищем негодяев. Это, несомненно, связано с племенными импульсами «мы против них», коренящимися в эмоциях и часто не поддающимися разуму.Он подпитывает национализм и милитаризм, что делает его потенциально опасным явлением в мире современного оружия. Тем не менее, патриотизм — внешний, явный и восторженный патриотизм — по-прежнему считается жизненно важным элементом американской политики, аспектом нашей культуры, который мы не только терпим, но и поощряем.
По мнению многих гуманистов, это стоит переосмыслить.
Американский патриотический порыв проявился на прошлой неделе, когда разгорелась полемика по поводу фотографии младенца, лежащего на флаге. Яд так называемых патриотов пропитал блогосферу и социальные сети, поскольку фотограф Ванесса Хикс подвергалась сильнейшему ожесточению.За изображение младенца, завернутого в красное, белое и синее, Хикс назвали «позорным» и даже сказали, что она должна убить себя.
Хикс, который оказался ветераном, отразил киберзапугивание и приобрел много сторонников в процессе, многие согласились с тем, что фотография действительно была патриотической (не говоря уже о милой). Хикс отметила, что отец ребенка — военный, отвергая мнение, что фотография должна рассматриваться как «осквернение» флага. Тем не менее проверка и критика продолжались.«Это фото непатриотично?» — спросили CNN и почти все другие крупные средства массовой информации, что сделало ее одной из главных новостей в новостном цикле недели.
Настоящий вопрос здесь, однако, должен заключаться в том, почему вообще разгорелась полемика. Даже если кому-то фотография не понравилась, конечно, никто не мог приписать фотографу дурные намерения. Сам факт, что фотография вызвала такую массовую враждебность и язвительность, является признаком того, что патриотический порыв в Америке выходит из-под контроля.
В то время как здоровая любовь к родине воспитала бы чувство единства и общих ценностей в атмосфере интеллекта и зрелости, современный американский патриотизм вместо этого стал средством разделения и агрессии.Уродство во имя патриотизма произошло в прошлом в рейдах Америка-Палмер и Маккарти эры простые примеры, но современные времена легко конкурирующий те периоды, когда патриотизм становится все более ревностным, невосприимчивы к критическому мышлению, и беспрекословно милитаристская.
Благоговение перед патриотическими символами стало в Америке превыше всего, поскольку граждане прикрепляют ленточные магниты к своим внедорожникам, а политические кандидаты подвергаются сомнению, когда они не надевают флаг на лацкане лацкана. Такие жесты делать легко (кандидат с булавкой для флага, в конце концов, вряд ли проявляет политическое мужество, и даже террорист мог бы повесить желтую ленточку на свой автомобиль), но тем не менее они рассматриваются как свидетельство истинного патриотизма.
Без ведома многих американцев, особенно молодежи, этот повышенный патриотизм по большей части является относительно новым. Булавки для флагов стали обязательными аксессуарами для политиков только в последнем поколении, и именно в эпоху после 11 сентября возникло широкое распространение ленточные магниты и слова «Боже, благослови Америку!» сольные концерты на играх высшей бейсбольной лиги. (Как я уже отмечал в другом месте, многие общие патриотические символы и жесты Америки, от «под Богом» в клятве верности до национального девиза «Мы верим в Бога» и до использования слова «Боже, благослови Америку» в политических выступлениях , намного новее, чем многие думают. )
)
Среди всего этого символического и эмоционального выражения патриотизма критическое мышление редко поощряется. Например, беспокоясь о том, что американские войска будут отправлены на Ближний Восток умирать, можно было бы поискать информацию об основных причинах раздоров в регионе — интеллектуальное путешествие, которое может вернуться как минимум на столетие назад и выявить множество колониализма. , перевороты, поддерживаемые Западом, и эксплуатация — но это намного труднее, чем врезать магнит в машину, и это может привести к сомнению в мудрости милитаристской политики, которая извлекает выгоду из слепого патриотизма.
Отвращение к фактам — отличительная черта современного американского патриотизма. Размахивая флагами и надувая грудь с национальной гордостью, американцы не обращают внимания на факты, относящиеся к их собственному гражданскому дискурсу. По данным New York Times, только 35 процентов американцев могут назвать хотя бы одного судью в Верховном суде. В той же статье выяснилось, что 30% не могут назвать вице-президента, а еще меньше респондентов считают, что американская революция произошла в правильном столетии.Все становится только хуже, когда мы просим американцев учитывать факты за пределами их собственных границ. Отчеты показывают, что 85% не могут найти Ирак на карте, а более половины не могут найти Индию.
Этот ошеломляющий недостаток знаний в сочетании со слепым эмоциональным патриотизмом — формула катастрофы. Результатом является распространение неосведомленной американской исключительности, которая сродни социальному нарциссизму, эгоцентричному чувству важности и превосходства, которое может иметь ужасные последствия.
Учтите, что когда Америка в 2003 году начала войну в Ираке, движимая неудержимой волной патриотизма и милитаризма, семь из десяти американцев ошибочно и необъяснимо полагали, что Ирак несет ответственность за теракты 11 сентября — шокирующее невежество, которое привело к неисчислимым разрушениям и страдания. И мы по-прежнему видим, как ошибочный патриотизм сказывается на положении дел в стране. Сегодняшняя политическая арена, вызывающая разногласия, и дисфункциональное правительство являются естественным результатом системы, которая реагирует на такую неосведомленную и гиперпатриотическую демографию.
И мы по-прежнему видим, как ошибочный патриотизм сказывается на положении дел в стране. Сегодняшняя политическая арена, вызывающая разногласия, и дисфункциональное правительство являются естественным результатом системы, которая реагирует на такую неосведомленную и гиперпатриотическую демографию.
Любовь к своей стране — ее культуре, ее народу, ее истории и т. Д. — это понятный человеческий феномен, совершенно естественный и не проблемный по своей сути. Здоровый патриотизм отражает эту привязанность, не вызывая одновременно эгоизма, агрессии и враждебности. К сожалению, сегодня американский патриотизм не таков.
Моя последняя книга — Отражение правых: восстановление Америки от нападения по причине . Следуйте за мной в Twitter @ahadave или посетите Nonbeliever Nation на Facebook.
Северная Корея: образы патриотизма, пропаганды
Северная Корея: образы патриотизма, пропаганды — CBS NewsСмотрите CBSN Live
Дэвид Гуттенфельдер / AP Северные корейцы танцуют вместе под мозаичной картиной покойного лидера Ким Ир Сена во время массового собрания народных танцев в Пхеньяне, 11 апреля 2013 года, в ознаменование годовщины первого из многих властных титулов, данных лидеру Ким Чен Ыну после его смерти. его отца Ким Чен Ира. Джон Чол Джин / AP Флаг апрельского весеннего фестиваля народного искусства висит на сцене Большого театра Восточного Пхеньяна в Пхеньяне, Северная Корея, 11 апреля 2013 года.
Фестиваль открылся в четверг в ознаменование дня рождения покойного президента Ким Ир Сена 15 апреля, известного в Северной Корее как День Солнца. Портреты на заднем плане изображают Ким Ир Сена (слева) и его сына Ким Чен Ира. Александр Ф. Юань / AP Сотрудница авиакомпании Air Koryo из Северной Кореи носит булавку с портретами покойных северокорейских лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, пока она готовит салон перед вылетом в Пхеньян из аэропорта Пекина в Китае, 11 апреля 2013 года. Александр Ф. Юань / AP Женщина бежит, чтобы успеть на троллейбус в Пхеньяне, Северная Корея, 11 апреля 2013 года.
Табличка позади автобуса гласит: «Давайте с верностью поддерживать первое военное революционное лидерство великого товарища Ким Чен Ына». Александр Ф. Юань / AP Мужчина и женщина стоят перед планетарием в выставочном зале «Три революции» в Пхеньяне, Северная Корея, 11 апреля 2013 года. Дэвид Гуттенфельдер / AP Северные корейцы танцуют вместе под мозаичной картиной покойного лидера Ким Ир Сена во время массового собрания народных танцев в Пхеньяне, 11 апреля 2013 года, в ознаменование годовщины первого из многих властных титулов, данных лидеру Ким Чен Ыну после его смерти. его отца Ким Чен Ира. Дэвид Гуттенфельдер / AP Флаг Северной Кореи висит на фонарном столбе, когда пешеход проходит по улице Пхеньяна, 9 апреля 2013 года. Дэвид Гуттенфельдер / AP Северные корейцы танцуют вместе под мозаичной картиной покойного лидера Ким Ир Сена во время массового собрания народных танцев в Пхеньяне, 11 апреля 2013 года, в ознаменование годовщины первого из многих властных титулов, данных лидеру Ким Чен Ыну после его смерти.
 его отца Ким Чен Ира. Дэвид Гуттенфельдер / AP Жилой дом среди зданий в центре Пхеньяна, Северная Корея, в сумерках, 10 апреля 2013 года. Александр Ф. Юань / AP Дежурный Air Koryo предлагает северокорейские газеты и журналы перед вылетом в Пхеньян из аэропорта Пекина в Китае, 11 апреля 2013 года. Дэвид Гуттенфельдер / AP Пассажиры выходят из рейса Северной Кореи Air Koryo по прибытии в международный аэропорт Пхеньяна, 9 апреля 2013 года. Джон Чол Джин / AP Артисты из Северной Кореи на сцене на открытии апрельского весеннего фестиваля народного искусства в Большом театре Восточного Пхеньяна в Пхеньяне, Северная Корея, 11 апреля 2013 года.
его отца Ким Чен Ира. Дэвид Гуттенфельдер / AP Жилой дом среди зданий в центре Пхеньяна, Северная Корея, в сумерках, 10 апреля 2013 года. Александр Ф. Юань / AP Дежурный Air Koryo предлагает северокорейские газеты и журналы перед вылетом в Пхеньян из аэропорта Пекина в Китае, 11 апреля 2013 года. Дэвид Гуттенфельдер / AP Пассажиры выходят из рейса Северной Кореи Air Koryo по прибытии в международный аэропорт Пхеньяна, 9 апреля 2013 года. Джон Чол Джин / AP Артисты из Северной Кореи на сцене на открытии апрельского весеннего фестиваля народного искусства в Большом театре Восточного Пхеньяна в Пхеньяне, Северная Корея, 11 апреля 2013 года.Фестиваль открылся в четверг в ознаменование дня рождения покойного президента Ким Ир Сена 15 апреля, известного в Северной Корее как День Солнца. Александр Ф. Юань / AP Женщина-полицейский стоит в центре перекрестка возле знака с надписью «Защищайтесь насмерть», когда фургоны проезжают мимо в Пхеньяне, Северная Корея, 11 апреля 2013 года. Дэвид Гуттенфельдер / AP Северокорейский солдат стоит у придорожной пропаганды с надписью «Давайте поддерживать первое военное революционное лидерство великого товарища Ким Чен Ына с верностью» в Пхеньяне, 9 апреля 2013 года. Александр Ф.
 Юань / AP Мальчик катается на роликовых коньках возле башни Чучхе в Пхеньяне, Северная Корея, 11 апреля 2013 года. Джон Чол Джин / AP Артисты поют песню о тоске по покойному лидеру Северной Кореи Ким Чен Ира на открытии апрельского весеннего фестиваля народного искусства в Большом театре Восточного Пхеньяна в Пхеньяне, Северная Корея, 11 апреля 2013 года.
Юань / AP Мальчик катается на роликовых коньках возле башни Чучхе в Пхеньяне, Северная Корея, 11 апреля 2013 года. Джон Чол Джин / AP Артисты поют песню о тоске по покойному лидеру Северной Кореи Ким Чен Ира на открытии апрельского весеннего фестиваля народного искусства в Большом театре Восточного Пхеньяна в Пхеньяне, Северная Корея, 11 апреля 2013 года.Фестиваль открылся в четверг в ознаменование дня рождения покойного президента Ким Ир Сена 15 апреля, известного в Северной Корее как День Солнца. Александр Ф. Юань / AP Женщина в традиционной одежде трет лицо после участия в официальном культурном мероприятии, пока другая разговаривает по мобильному телефону, пока они идут по улице в сумерках в Пхеньяне, Северная Корея, 11 апреля 2013 года. Александр Ф. Юань / AP Члены Корейского детского союза болтают, пока зрители занимают свои места на стадионе перед церемонией введения детей в союз, первую политическую организацию северокорейцев, в Пхеньяне, Северная Корея, 12 апреля 2013 года. Дэвид Гуттенфельдер / AP Северокорейские дети держат красные шарфы, чтобы повязать их на шее во время церемонии вступления в Союз детей Кореи в Пхеньяне, Северная Корея, 12 апреля 2013 года. Дэвид Гуттенфельдер / AP Вышедшие в отставку северокорейские военные повязывают детям красные банданы на шеи во время церемонии вступления в Союз детей Кореи в Пхеньяне, Северная Корея, 12 апреля 2013 года.
 Александр Ф. Юань / AP Северокорейские дети стоят и ждут, пока офицеры повязывают им на шеи красные банданы во время церемонии принятия детей в Союз детей Кореи, первой политической организации северокорейцев, на стадионе в Пхеньяне, Северная Корея, 12 апреля 2013 года.
Александр Ф. Юань / AP Северокорейские дети стоят и ждут, пока офицеры повязывают им на шеи красные банданы во время церемонии принятия детей в Союз детей Кореи, первой политической организации северокорейцев, на стадионе в Пхеньяне, Северная Корея, 12 апреля 2013 года.Будьте первым, кто узнает
Получайте в браузере уведомления о последних новостях, событиях в прямом эфире и эксклюзивных репортажах.
Не сейчас Включатьотечественных поделок для детей | Восточная торговая компания
Покупайте предметы первой необходимости красного, белого и синего цветов по сниженной цене!
Сэкономьте на поделках для детей четвертого июля, патриотических поделках, поделках на четвертое июля и многом другом.
Празднуйте красный, белый и синий цвета с забавными поделками специально для вас! Патриотическая и недорогая, наша коллекция детских поделок на День 4 июля — это не только классные, качественные поделки, но и звездная экономия.Покупайте волшебные поделки для царапин, поделки из бумаги, бейсболки, холщовые сумки, банданы, раскрасьте свои собственные поделки, наборы для украшения, пляжные мячи и многое другое!
Рассказываете ли вы детям о Леди Свободы и Дне Независимости или планируете веселые поделки для предстоящего празднования Четвертого июля, у нас есть кое-что на любой творческий вкус. Лучшая часть? Каждая из наших поделок предназначена не только для развлечения, но и с учетом вашего бюджета. Почему? Так что дети могут позволить творческой свободе звучать! Супер веселый способ отпраздновать День Независимости — заниматься рукоделием.Дети могут добавлять украшения и краску для ткани к нашим бейсболкам и сумкам, а затем с американской гордостью щеголять своим уникальным творением! Наши прочные ведра для подарков — это сделка, усыпанная звездами, которую вы захотите открыть.
